Stroke. 2018 Jan 15;49(2):491–497. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.016990
PMCID: PMC5892842 NIHMSID: NIHMS928460 PMID: 29335334
Diagnosis of Cerebral Amyloid Angiopathy: Evolution of the Boston Criteria
Диагностика церебральной амилоидной ангиопатии: эволюция Бостонских критериев
Steven M Greenberg 1, Andreas Charidimou 1
Перевод Г.Е. Заика (29.09.2025)
APP – amyloid precursor protein – белок-предшественник амилоида
ARIA-E – edema-type amyloid-related imaging abnormalities – аномалии визуализации, связанные с амилоидным типом отека
CAA – cerebral amyloid angiopathy – церебральная амилоидная ангиопатия
CAA-ri – CAA-related inflammation – воспаление, связанное с CAA
СМBs – cerebral microbleeds – церебральные микрокровоизлияния
ICHs – Intracerebral hemorrhages – внутримозговые кровоизлияния
PET – positron-emission tomography – Позитронно-эмиссионная томография
SWI – susceptibility-weighted imaging – взвешенная по восприимчивости визуализация
WMH – white matter T2 hyperintensities – гиперинтенсивность Т2 белого вещества
История постановки диагноза церебральной амилоидной ангиопатии (CAA – cerebral amyloid angiopathy) рассказывает о самой болезни. CAА определяется гистопатологией – отложением β-амилоида в цереброваскуляторном мозге – и до 1980-х годов это расстройство диагностировалось только у пациентов с доступной мозговой тканью после эвакуации гематомы, биопсии или, чаще всего, посмертного обследования [1]. Введение в 1990-х годах Бостонских критериев диагностики CAА на основе визуализации позволило поставить диагноз «вероятный CAА» у живых пациентов без доступной мозговой ткани и существенно переместило эту область из области патологоанатомов в область клиницистов. Бостонские критерии для CAA стали основой для принятия клинических решений, а также быстро растущим объемом литературы [4], исследующей клинические проявления заболевания, фенотипический спектр, прогрессирование и потенциал болезнь-модифицирующей терапии.
История диагностических критериев САА также иллюстрирует более широкие проблемы для других основных заболеваний центральной нервной системы. Если бы мозг был так же доступен для непосредственного исследования тканей в течение жизни, как кровь или даже печень, диагностика и определение стадии заболеваний мозга, таких как заболевания мелких сосудов головного мозга или нейродегенеративные заболевания, были бы относительно простыми, а состояние клинических испытаний, по-видимому, было бы более продвинутым. Однако, учитывая относительную недоступность тканей мозга, диагностические подходы должны основываться на косвенных, но, тем не менее, мощных методах, таких как МRI. В данной статье будет рассмотрена эволюция и применение Бостонских критериев, как критерии способствовали поиску биомаркеров CAA, а также будущие направления в этой все еще развивающейся области.
Разработка и валидация Бостонских критериев CAA
Бостонские критерии диагностики CAA возникли в результате дискуссий между одним из авторов (SMG), Drs. Carlos Kase, Daniel Kanter, и позднee MichaelPessin. Критерии были впервые опубликованы в 1995 году в разделе «Методы» анализа CAA и аллеля аполипопротеина E ε4 [2] и в 1996 году в качестве таблицы в клинико-патологическом описании клинического случая [3]. Используя терминологию категорий, применяемую к другим заболеваниям головного мозга, таким как болезнь Альцгеймера [5, 6], они определили определенные CАА на основе полного вскрытия, вероятные или возможные CАА на основе визуализации мозга плюс клинические исключения, а также дополнительную категорию вероятных CАА с поддерживающей патологией, основанной на клинических сценариях наличия ограниченной ткани мозга в результате биопсии или эвакуации гематомы (Таблица 1). Определенная CAА требует высокой невропатологической степени тяжести (включая признаки прогрессирующей васкулопатии, такие как замещение амилоида и расщепление стенки кровеносного сосуда) [7, 8] для того, чтобы избежать диагностирования состояния, когда патология является лишь легкой и случайной. Для вероятных CAА с поддерживающей патологией требуется меньшая гистопатологическая тяжесть, чтобы отразить меньшее количество отобранной ткани и, как следствие, меньшую вероятность выявления наиболее поздних очагов заболевания [9]. Таблица 1. Модифицированные Бостонские критерии церебральной амилоидной ангиопатии. 1. Определённый CAA Полное патологоанатомическое исследование, демонстрирующее: 1. Долевое, корковое или корково-подкорковое кровоизлияние 1. Тяжелая форма CAА с васкулопатией · Отсутствие других диагностических поражений |
2. Вероятный CAА с поддерживающей патологией Клинические данные и патологическая ткань (эвакуированная гематома или кортикальная биопсия): · Долевое, корковое или корково-подкорковое кровоизлияние (в том числе ICH, CMB, или cSS) 1. Некоторая степень CAA в образце · Отсутствие других диагностических поражений |
3. Вероятный CAA Клинические данные и демонстрация МRI или CТ: · Множественные кровоизлияния (ICH, CMB), ограниченные долевой, корковой или корково-подкорковой областями (допускается мозжечковое кровоизлияние), ИЛИ одиночное долевое, корковое или корково-подкорковое кровоизлияние и cSS (очаговое или диссеминированное) 1. Возраст ≥55 лет · Отсутствие других причин кровотечения* |
4. Возможный CAA Клинические данные и демонстрация МRI или CТ: · Одиночная долевая, кортикальная или корково-подкорковая ICH, CMB, или cSS (очаговые или диссеминированные) 1. Возраст ≥55 лет · Отсутствие других причин кровотечения* |
Ключевой диагностической категорией для клинической практики и исследований является вероятная CAА, наивысший уровень диагностической достоверности, достижимый в настоящее время без получения мозговой ткани. В том виде, в котором они были сформулированы (первоначальные Бостонские критерии), вероятная САА повлекла за собой нейровизуализационную демонстрацию множественных (т.е. двух или более) кровоизлияний, ограниченных долевыми областями мозга [2, 3],определенными как кора головного мозга, кортикоподкорковое (серо-белое) соединение и подкорковое белое вещество. В 2010 году была предложена и валидирована модификация подсчета продуктов крови в корковых бороздах (корковый поверхностный сидероз, cSS) в качестве одного дополнительного геморрагического поражения («модифицированные Бостонские критерии») [10]. Таким образом, самая последняя версия критериев известна как модифицированные Бостонские критерии (Таблица 1). Потребность в множественных строго долевых кровоизлияниях основана на долевой предрасположенности патологии CAА и рецидивирующих внутримозговых кровоизлияниях (ICHs – Intracerebral hemorrhages) [1], анатомическое распределение, это почти идеально контрастирует с глубокими полушариями и расположениями ствола мозга, которым отдают предпочтение ICHs из-за гипертонической артериопатии [11]. Поскольку CАА обычно щадит эти глубокие территории, наличие любых геморрагических поражений в базальных ганглиях, таламусе или мостах исключает вероятный диагноз CAA. Кровоизлияния в мозжечок могут быть результатом либо CAA, либо гипертонической артериопатии и поэтому не учитываются в соответствии с Бостонскими критериями ни в пользу, ни против вероятного диагноза CAA.
При применении Бостонских критериев на практике возникает ряд методологических проблем. Один из них заключается в том, что все типы геморрагических поражений – ICH, церебральные микрокровоизлияния (СМBs) [12], и (с момента публикации модифицированных Бостонских критериев) [10] острые выпуклые субарахноидальные кровотечения или cSS [13] – засчитываются в счет множественных долевых кровоизлияний, необходимых для вероятных CAA, или, в качестве альтернативы, исключают вероятные CAA, если они находятся на глубоких территориях. Обоснование для подсчета всех типов геморрагических поражений заключается в том, что, хотя различные размеры кровоизлияния могут возникать в результате различных патогенных механизмов [14], каждый из которых, по-видимому, представляет собой отдельное событие утечки из сосуда и, следовательно, предоставляет независимые доказательства основного состояния малого сосуда. Все более широкое использование Т2*-взвешенных методов CMDs, чувствительных к крови, в значительной степени повлияло на выявление реликтовых излучений (рис. 1) и cSS (рис. 2) и, таким образом, на диагностику CAA, как описано ниже. И наоборот, геморрагические поражения, которые могут быть частью более крупного кровоизлияния, такие как меньшие расширения вблизи более крупного кровоизлияния или очаги cSS, расположенные вблизи или непосредственно связанные с ICHs, которые разорвались в субарахноидальное пространство, рассматриваются как часть одного кровотечения и, таким образом, не считаются отдельными кровоизлияниями (см. рис. 1С и 2В). Вторая практическая проблема заключается в том, что геморрагическое поражение в полуовальном центре может появиться на большом расстоянии от наружной поверхности мозга и при этом находиться довольно близко к кортикоподкорковому соединению (рис. 1D) из-за волнообразных изгибов корковых извилин. Кровоизлияния считаются глубокими полушариями только в том случае, если они явно затрагивают базальные ганглии, таламус или внутреннюю капсулу.
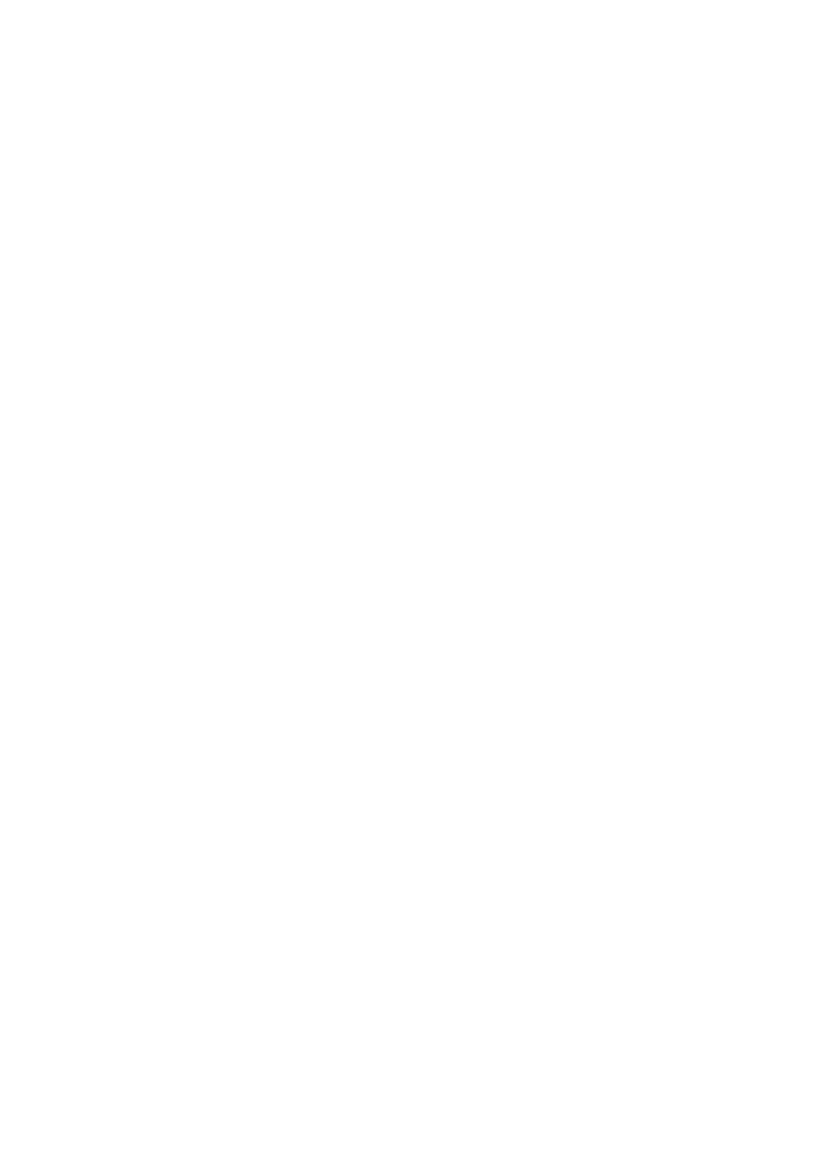
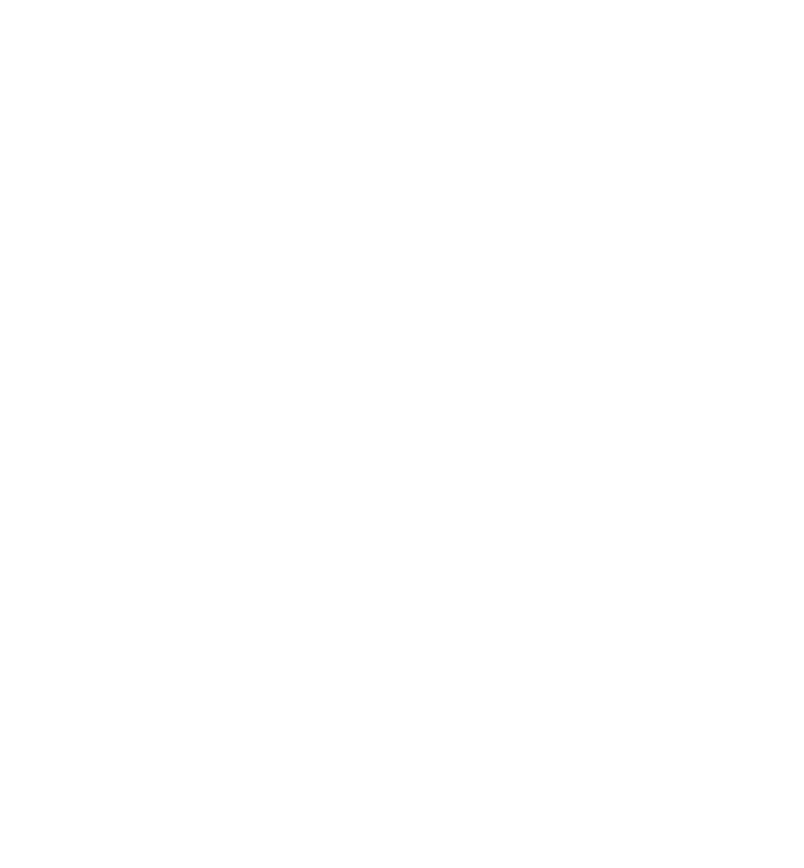
МRI-гистопатологические исследования на сегодняшний день [10, 15–17] предоставили подтверждающие доказательства вероятного диагноза САА по Бостонским критериям (Таблица 2), при этом чувствительность, по-видимому, частично зависит от клинической картины обследованных пациентов. Среди трех госпитальных исследований пациентов с преобладающей ICH, которым была выполнена Т2*-взвешенная МRI [10, 15, 16], вероятные CAA по оригинальным Бостонским критериям показали чувствительность в диапазоне от 57,9% до 76,9% и специфичность от 87,5% до 100%. Одно прямое сравнение исходного и модифицированного критериев [10] показало, что включение присутствия cSS повышает чувствительность без снижения специфичности (Таблица 2). В четвертом исследовании [17] была проанализирована когорта пациентов без ICH с другими клиническими проявлениями, такими как когнитивные нарушения или транзиторные фокальные неврологические эпизоды, и была обнаружена более низкая чувствительность (42,4%) и аналогичная специфичность (90,9%). Регрессионная модель этих данных показала, что увеличение количества долевого CMB предсказывает большую вероятность патологии CAA. В том же исследовании [17] также была проанализирована общественная когорта лиц с Т2*-взвешенной МRI и последующим вскрытием, обнаружив, что вероятный диагноз CAA имеет низкую чувствительность всего 4,5% для патологической CAA со специфичностью 88,0%.
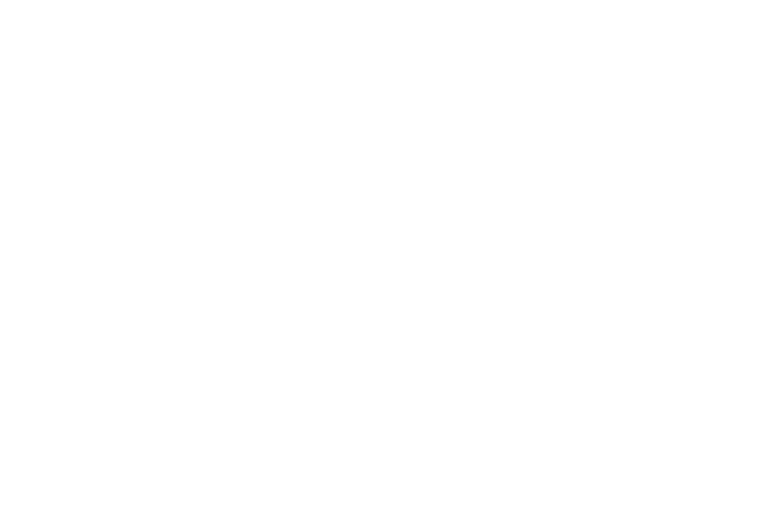
Использование модифицированных Бостонских критериев. Все остальные значения используют исходные бостонские критерии.
Бостонские критерии также были подтверждены с помощью МRI-генетической корреляции у лиц, несущих CAA-специфичные, полностью пенетрантные мутации белка-предшественника амилоида (APP– amyloid precursor protein) (Таблица 2). Среди носителей мутации APP голландского типа 15 из 15 с симптоматическим геморрагическим инсультом имели множественные строго долевые геморрагические поражения, соответствующие исходным вероятным критериям CAA (за пределами требования к возрасту ≥55 лет) [18]. Только 2 из 12 носителей мутаций без симптоматической ICH соответствовали этому определению, что свидетельствует о высокой чувствительности к симптоматическому наследственному заболеванию голландского типа, но низкой чувствительности к предсимптоматической фазе. Специфичность в этом исследовании не могла быть оценена, так как мутационно-отрицательные лица не сканировались. В другом отчете было выявлено пять человек, несущих другие ассоциированные с CAA мутации APP (айовский, итальянский и фламандский типы), чьи геморрагические поражения также соответствовали модифицированным вероятным критериям CAA [19].
Вышеупомянутые валидационные исследования имеют заметные ограничения: небольшие размеры выборки, ограничение в основном одним учащимся и белыми участниками, а также различные методы МRI, взвешенные по T2* (обсуждаются ниже). Несмотря на эти опасения, исследования показывают, что модифицированные вероятные критерии CAA:
1) достаточно высокая специфичность в отношении патологических CAA во всех условиях;
2) высокая чувствительность среди пациентов с симптоматическими кровотечениями, возможно более низкая чувствительность к проявлениям, не связанным с ICH, и довольно низкая чувствительность в общей популяции.
Тенденция к увеличению чувствительности с увеличением тяжести или более поздней стадией CAA, по-видимому, отражает давно признанное наблюдение о том, что патология CAA должна быть значительно развита, прежде чем она станет достаточно серьезной, чтобы вызвать кровотечения [7, 8]. Регрессионный анализ, показывающий возрастающую специфичность при более высоком количестве реликтовых излучений CMB на 17 процентов, указывает на дополнительную возможность того, что вероятность CAA следует градуированной зависимости от числа кровоизлияний, а не резкого порога при ≥2 кровоизлияния.
Различия в обнаружении кровоизлияний с помощью МRI добавляют еще один уровень сложности. В частности, на обнаружение реликтового излучения CMB [12] сильно влияет ряд факторов при регистрации и обработке данных МRI, включая напряженность магнитного поля, время эха, разрешение сканирования, включение фазовой информации (используется в визуализации, взвешенной по восприимчивости20) или взвешенное усреднение по нескольким временам эха (используется в ангиографии, взвешенной по восприимчивости [21]). Систематическое сравнение одновременно полученных МРТ показывает, что эти параметры существенно влияют на количество МRI, подсчитываемых оценщиками [22, 23], что означает, что любое исследование САА-ассоциированного МRI будет зависеть от точного используемого метода МRI. Недавний анализ MRIпосмертного мозга ex vivo [24] предполагает, что теоретическая цель почти 100% детектирования реликтового излучения может быть в конечном итоге достижима, но только при очень высоком разрешении (порядка 200 мкм изотропных вокселей). Дополнительные повреждения, обнаруженные при еще большем уменьшении размера вокселей (до 75 мкм изотропных), в основном представляли собой имитацию реликтового излучения, такую как окклюзии мелких сосудов или микроаневризмы, а не настоящие микрокровоизлияния.
Возможная категория Бостонских критериев CAA относится к лицам с ровно одним геморрагическим поражением,15 или (в соответствии с модифицированными критериями) только с cSSбез ICH или реликтового излучения [10]. Незначительная корреляция между МRI и патологоанатомией была выполнена в возможных CAA. Из 8 человек, участвовавших в первоначальном валидационном исследовании [15], были только изолированная долевая ICH на Т2*-взвешенной МRI, у 3 была патология CAA, что подтверждает интерпретацию того, что возможная CAA имеет меньшую диагностическую достоверность, чем вероятная CAA. Влияние параметров МRI, на которые у людей диагностирован вероятный и возможный CAA, систематически не анализировалось, но, исходя из вышеизложенного, вероятно, значительно. Другой часто встречающейся картиной являются «смешанные» геморрагические поражения, расположенные как в долевой, так и в глубокой областях (рис. 1B). Недавний анализ 75 пациентов со смешанной HCI [25], из которых показал, что 66 (88%) страдают гипертензией и имеют другие маркеры гипертонической болезни мелких сосудов такие как повышенный уровень креатинина в сыворотке крови и обильное увеличение периваскулярных пространств в базальных ганглиях по сравнению с пациентами с вероятными CAA. Эти данные свидетельствуют о вкладе гипертонической артериопатии, но не исключают перекрывающуюся CAА, по крайней мере, в подгруппе. Из-за высокого уровня диагностической неопределенности пациенты в этой смешанной категории представляют собой существенные проблемы для клиницистов (см. раздел «Будущие направления» ниже).
Роль Бостонских критериев в поиске биомаркеров
Возможность диагностировать CAА в течение жизни с хорошей специфичностью является предпосылкой для выявления других биомаркеров наличия, тяжести и будущего поведения заболевания. Вероятный диагноз САА, основанный на количестве и распределении геморрагических поражений, действительно послужил основой для идентификации ряда негеморрагических биомаркеров CAA. Если основывать биомаркер на вероятном CAA, а не требовать гистопатологического подтверждения, существует риск того, что люди с ошибочным диагнозом будут давать ложные результаты, либо ложноположительные, либо, что более вероятно, ложноотрицательные из-за неправильной классификации переменной «воздействия» CAA. Однако опыт исследований CAA показывает, что этот подход предпочтительнее, чем альтернатива, заключающаяся в ограничении исследований только патологически верифицированными CAA. Последний подход имеет свои серьезные ограничения как в размере выборки, так и в обобщенности, поскольку мозговая ткань (будь то в результате эвакуации гематомы, биопсии или аутопсии) становится доступной не случайно, а скорее в отдельных подгруппах с особенно тяжелым или атипичным клиническим течением.
Среди длинного (и, вероятно, все еще растущего) списка биомаркеров CAA, ставших возможными благодаря Бостонским критериям, можно выделить:
1) гиперинтенсивность Т2 белого вещества (WMH – white matter T2 hyperintensities) [26], с тенденцией к заднему преобладанию [27] или множественным подкорковым пятном [28];
2) Измененные диффузионно-тензорные параметры визуализации, такие как глобальная средняя диффузия [29] или глобальная эффективность, полученная с помощью диффузионного тензора [30];
3) сосудистую реактивность на функциональную стимуляцию [31, 32];
4) толщину коры [33];
5) Гиперинтенсивность точечной диффузионно-взвешенной визуализации, указывающая на острые микроинфаркты [34, 35];
6) Расширенные периваскулярные пространства в центре семиовала (CSO-EPVS) [36, 37];
7) Позитронно-эмиссионная томография (PET – positron-emission tomography) мечение амилоидными лигандами Pittsburgh Compound B и Florbetapir [38–42]; и
8) снижение концентрации β-амилоида в спинномозговой жидкости [43–45]. Эти мультимодальные биомаркеры служат как важными окнами в патогенез CАА, так и маркерами-кандидатами исхода для клинических испытаний [46].
Зависимость диагноза по Бостонским критериям CAA от геморрагических поражений ограничивает анализ любых биомаркеров, которые появляются до или полностью без кровотечения, связанного с CAA. Основным подходом к обходу этого ограничения было изучение носителей пенетрантных мутаций APP, связанных с CAA, до кровоизлияния. Анализ таких носителей мутации голландского типа позволяет предположить, что сниженная функциональная реактивность, микроинфаркты, и WMH могут предшествовать CAA-родственно CMBs или ICH [47, 48].
Еще одним применением Бостонских критериев стало то, что они послужили отправной точкой для формулирования диагностических критериев аутоиммунного синдрома воспаления, связанного с CAA (CAA-ri – CAA-related inflammation) [49]. Возможность диагностировать CAA-ri только по клиническим и визуализирующим признакам является клинически важной, поскольку это позволяет пациентам начать иммуносупрессивное лечение без осложнений в виде биопсии головного мозга. Предлагаемые критерии для вероятного CAA-ri [50] требуют геморрагических поражений, соответствующих вероятным CAA, а также дополнительных клинических и визуализирующих признаков: проявления с головной болью, снижением сознания, поведенческими изменениями, фокальными признаками или судорогами, а также МRI-доказательства поражений WMH, которые являются асимметричными и распространяются непосредственно на подкорковое белое вещество. В валидационном исследовании [50] вероятных критериев CAA-ri были удовлетворены 14 из 17 человек с патологически подтвержденным CAA-ri против 1 из 37 с патологически подтвержденным невоспалительным CAA, что дало чувствительность 82% и специфичность 97%. Высокая специфичность особенно актуальна с клинической точки зрения, поскольку она позволяет безопасно избежать биопсии головного мозга у пациентов, отвечающих вероятным критериям CAA-ri. Подкорковые поражения WMH при CAA-ri имеют внешний вид, сходный с аномалиями визуализации, связанными с амилоидом типа отека (ARIA-E – edema-type amyloid-related imaging abnormalities, наблюдаемыми в связи с испытаниями антиамилоидной иммунотерапии [51], что предполагает возможные общие механизмы.
Будущие направления диагностики CAA
История Бостонских критериев высвечивает некоторые более широкие проблемы в разработке критериев для заболеваний, при которых окончательный диагноз тканей часто невозможен. Одним из них является неизбежный компромисс между чувствительностью и специфичностью, в результате которого высокочувствительные критерии рискуют получить ложноположительные диагнозы, а высокоспецифичные критерии дают больше ложноотрицательных результатов. Не существует единственного правильного баланса, и действительно, разные приложения могут требовать разных приоритетов. Например, диагностическая специфичность может быть преобладающим фактором при определении приемлемости для участия в исследовательских испытаниях, в то время как чувствительность может быть ключевой для оценки клинического риска антитромботического лечения. Второе противоречие заключается в том, как найти баланс между простотой использования и сложностью и полнотой. Определение вероятного CAA достаточно просто применять с одним пороговым набором при двух или более строго долевых геморрагических поражениях, но более сложные критерии, включающие другие категории поражений и биомаркеры, могут повысить точность и быть более полезными для исследований.
Некоторые аспекты вероятного CAA кажутся многообещающими возможностями для улучшения. Один из них включает в себя как серьезность, так и присутствие cSS. Диссеминированный cSS, определяемый как включающий более трех борозд (рис. 2B), связан с клиническими маркерами тяжести заболевания, такими как рецидивирующая ICH [52, 53], и пост-ICH деменция [54], а также с другими визуализирующими биомаркерами, такими как обильное количество CSO-EPVS [55], что позволяет предположить, что степень cSS несет полезную диагностическую информацию. Еще одной областью потенциального улучшения является диагностика CAA у лиц с геморрагическими поражениями на смешанных долевых и глубоких территориях (рис. 1B), особенно когда долевое CMB значительно превосходит по численности глубокое. Недавний анализ, например, определил отношение CMBдолевого к глубокому CMB для лиц в этой смешанной категории и обнаружил, что более высокие соотношения коррелируют с увеличением сигнала Pittsburgh Compound B-PET [56], что предполагает вероятное CAA. Наконец, можно представить себе усовершенствование Бостонских критериев за счет включения негеморрагических биомаркеров визуализации. Учет тяжелой СSО-EPVS в качестве дополнительного поражения, например, повысил чувствительность Бостонских критериев без ухудшения специфичности в небольшой серии [16]. Любое включение дополнительных маркеров должно учитывать указанную выше возможность того, что их чувствительность/специфичность может варьироваться в зависимости от проявления CAA (ICH, симптомы без ICH или бессимптомные).
В качестве следующего шага на пути к обновлению и улучшению диагностики CAA Международная ассоциация CAA недавно предприняла многоцентровую работу по обновлению и внешней валидации Бостонских критериев. В рамках этого проекта будут проанализированы все доступные клинические и нейровизуализационные данные от лиц в возрасте ≥50 лет с любыми потенциальными клиническими проявлениями, связанными с САА, МRI и гистопатологическими диагнозами. Цель состоит в том, чтобы создать и проверить основанную на данных «версию 2.0» Бостонских критериев, которая будет отвечать потребностям врачей и исследователей и поможет поддерживать быстрые темпы прогресса в направлении лучшего лечения CAA.
Подтверждения
Источники финансирования
Dr. Greenberg поддерживается грантами от National Institutes of Health (R01 AG26484, R01 NS070834, R01 NS096730, U24 NS100591).
Dr Charidimou поддерживается Фондом Бодоссаки (постдокторская стипендия).
2. Greenberg SM, Rebeck GW, Vonsattel JP, Gomez-Isla T, Hyman BT. Apolipoprotein e epsilon 4 and cerebral hemorrhage associated with amyloid angiopathy. Ann Neurol. 1995;38:254–259. doi: 10.1002/ana.410380219. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
3. Greenberg SM, Edgar MA. Case records of the massachusetts general hospital, case 22–1996. N Engl J Med. 1996;335:189–196. doi: 10.1056/NEJM 199607183350308. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
4. Charidimou A, Fox Z, Werring DJ, Song M. Mapping the landscape of cerebral amyloid angiopathy research: An informetric analysis perspective. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016;87:252–259. doi: 10.1136/jnnp-2015-310690. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
5. McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM. Clinical diagnosis of alzheimer’s disease: Report of the nincds-adrda work group under the auspices of department of health and human services task force on alzheimer’s disease. Neurology. 1984; 34:939–944. doi: 10.1212/wnl.34.7.939. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
6. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, Hyman BT, Jack CR, Jr, Kawas CH, et al. The diagnosis of dementia due to alzheimer’s disease: Recommendations from the national institute on aging-alzheimer’s association workgroups on diagnostic guidelines for alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2011;7:263–269. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.005. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
7. Vonsattel JP, Myers RH, Hedley-Whyte ET, Ropper AH, Bird ED, Richardson EP. Cerebral amyloid angiopathy without and with cerebral hemorrhages: A comparative histological study. Ann Neurol. 1991;30:637–649. doi: 10.1002/ana.410300503. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Mandybur TI. Cerebral amyloid angiopathy: The vascular pathology and complications. Journal of neuropathology and experimental neurology. 1986;45:79–90. [PubMed] [Google Scholar]
9. Greenberg SM, Vonsattel JP. Diagnosis of cerebral amyloid angiopathy. Sensitivity and specificity of cortical biopsy. Stroke. 1997;28:1418–1422. doi: 10.1161/01.str.28.7.1418. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
10. Linn J, Halpin A, Demaerel P, Ruhland J, Giese AD, Dichgans M, et al. Prevalence of superficial siderosis in patients with cerebral amyloid angiopathy. Neurology. 2010;74:1346–1350. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181dad605. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
11. Fisher CM. Pathological observations in hypertensive cerebral hemorrhage. J Neuropathol Exp Neurol. 1971;30:536–550. doi: 10.1097/00005072-197107000-00015. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
12. Greenberg SM, Vernooij MW, Cordonnier C, Viswanathan A, Al-Shahi Salman R, Warach S, et al. Cerebral microbleeds: A guide to detection and interpretation. Lancet Neurol. 2009;8:165–174. doi: 10.1016/S1474-4422(09)70013-4. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
13. Charidimou A, Linn J, Vernooij MW, Opherk C, Akoudad S, Baron JC, et al. Cortical superficial siderosis: Detection and clinical significance in cerebral amyloid angiopathy and related conditions. Brain. 2015;138:2126–2139. doi: 10.1093/brain/awv162. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
14. Greenberg SM, Nandigam RN, Delgado P, Betensky RA, Rosand J, Viswanathan A, et al. Microbleeds versus macrobleeds: Evidence for distinct entities. Stroke. 2009;40:2382–2386. doi: 10.1161/STROKEAHA.109.548974. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
15. Knudsen KA, Rosand J, Karluk D, Greenberg SM. Clinical diagnosis of cerebral amyloid angiopathy: Validation of the boston criteria. Neurology. 2001;56:537–539. doi: 10.1212/wnl.56.4.537. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
16. Charidimou A, Jaunmuktane Z, Baron JC, Burnell M, Varlet P, Peeters A, et al. White matter perivascular spaces: An mri marker in pathology-proven cerebral amyloid angiopathy? Neurology. 2014;82:57–62. doi: 10.1212/01.wnl.0000438225. 02729.04. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
17. Martinez-Ramirez S, Romero JR, Shoamanesh A, McKee AC, Van Etten E, Pontes-Neto O, et al. Diagnostic value of lobar microbleeds in individuals without intracerebral hemorrhage. Alzheimers Dement. 2015;11:1480–1488. doi: 10.1016/j.jalz.2015.04.009. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
18. van Rooden S, van der Grond J, van den Boom R, Haan J, Linn J, Greenberg SM, et al. Descriptive analysis of the boston criteria applied to a dutch-type cerebral amyloid angiopathy population. Stroke. 2009;40:3022–3027. doi: 10.1161/S TRO KEAHA.109.554378. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
19. Sellal F, Wallon D, Martinez-Almoyna L, Marelli C, Dhar A, Oesterle H, et al. App mutations in cerebral amyloid angiopathy with or without cortical calcifications: Report of three families and a literature review. J Alzheimers Dis. 2017;56:37–46. doi: 10.3233/JAD-160709. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
20. Haacke EM, Xu Y, Cheng YC, Reichenbach JR. Susceptibility weighted imaging (swi) Magn Reson Med. 2004;52:612–618. doi: 10.1002/mrm.20198. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
21. Boeckh-Behrens T, Lutz J, Lummel N, Burke M, Wesemann T, Schopf V, et al. Susceptibility-weighted angiography (swan) of cerebral veins and arteries compared to tof-mra. Eur J Radiol. 2012;81:1238–1245. doi: 10.1016/j.ejrad.2011.02.057. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
22. Vernooij MW, Ikram MA, Wielopolski PA, Krestin GP, Breteler MM, van der Lugt A. Cerebral microbleeds: Accelerated 3d t2*-weighted gre mr imaging versus conventional 2d t2*-weighted gre mr imaging for detection. Radiology. 2008;248:272–277. doi: 10.1148/radiol.2481071158. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
23. Nandigam RN, Viswanathan A, Delgado P, Skehan ME, Smith EE, Rosand J, et al. Mr imaging detection of cerebral microbleeds: Effect of susceptibility-weighted imaging, section thickness, and field strength. AJNR Am J Neuroradiol. 2009;30:338–343. doi: 10.3174/ajnr.A1355. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
24.van Veluw SJ, Charidimou A, van der Kouwe AJ, Lauer A, Reijmer YD, Costantino I, et al. Microbleed and microinfarct detection in amyloid angiopathy: A high-resolution mri-histopathology study. Brain. 2016;139:3151–3162. doi: 10.1093/brain/aww229. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
25. Pasi M, Charidimou A, Boulouis G, Auriel E, Ayres A, Schwab KM, et al. Mixed location (deep and lobar) intracererbral hemorrhage and microbleeds: Underlying microangiopathy and risk of recurrence. Neurology. 2017 doi: 10.1212/WNL.000000000 0004797. in press. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
26. Gurol ME, Irizarry MC, Smith EE, Raju S, Diaz-Arrastia R, Bottiglieri T, et al. Plasma beta-amyloid and white matter lesions in ad, mci, and cerebral amyloid angiopathy. Neurology. 2006;66:23–29. doi: 10.1212/01.wnl.0000191403.95453.6a. [DO I] [PubMed] [Google Scholar]
27. Thanprasertsuk S, Martinez-Ramirez S, Pontes-Neto OM, Ni J, Ayres A, Reed A, et al. Posterior white matter disease distribution as a predictor of amyloid angiopathy. Neurology. 2014;83:794–800. doi: 10.1212/WNL.0000000000000732. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
28. Charidimou A, Boulouis G, Haley K, Auriel E, van Etten ES, Fotiadis P, et al. White matter hyperintensity patterns in cerebral amyloid angiopathy and hypertensive arteriopathy. Neurology. 2016;86:505–511. doi: 10.1212/WNL.0000000000002362. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
29. Viswanathan A, Patel P, Rahman R, Nandigam RN, Kinnecom C, Bracoud L, et al. Tissue microstructural changes are independently associated with cognitive impairment in cerebral amyloid angiopathy. Stroke. 2008;39:1988–1992. doi: 10.11 61/STROKEAHA.107.509091. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
30. Reijmer YD, Fotiadis P, Martinez-Ramirez S, Salat DH, Schultz A, Shoamanesh A, et al. Structural network alterations and neurological dysfunction in cerebral amyloid angiopathy. Brain. 2015;138:179–188. doi: 10.1093/brain/awu316. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
31. Dumas A, Dierksen GA, Gurol ME, Halpin A, Martinez-Ramirez S, Schwab K, et al. Functional magnetic resonance imaging detection of vascular reactivity in cerebral amyloid angiopathy. Ann Neurol. 2012;72:76–81. doi: 10.1002/ana.23566. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
32. Peca S, McCreary CR, Donaldson E, Kumarpillai G, Shobha N, Sanchez K, et al. Neurovascular decoupling is associated with severity of cerebral amyloid angiopathy. Neurology. 2013;81:1659–1665. doi: 10.1212/01.wnl.0000435291.49598.54. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
33. Fotiadis P, van Rooden S, van der Grond J, Schultz A, Martinez-Ramirez S, Auriel E, et al. Cortical atrophy in patients with cerebral amyloid angiopathy: A case-control study. Lancet Neurol. 2016;15:811–819. doi: 10.1016/S1474-4422(16)30030-8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
34. Kimberly WT, Gilson A, Rost NS, Rosand J, Viswanathan A, Smith EE, et al. Silent ischemic infarcts are associated with hemorrhage burden in cerebral amyloid angiopathy. Neurology. 2009;72:1230–1235. doi: 10.1212/01.wnl.0000345666.83318.03. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
35. Gregoire SM, Charidimou A, Gadapa N, Dolan E, Antoun N, Peeters A, et al. Acute ischaemic brain lesions in intracerebral haemorrhage: Multicentre cross-sectional magnetic resonance imaging study. Brain: a journal of neurology. 2011;134:2376–2386. doi: 10.1093/brain/awr172. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
36. Charidimou A, Meegahage R, Fox Z, Peeters A, Vandermeeren Y, Laloux P, et al. Enlarged perivascular spaces as a marker of underlying arteriopathy in intracerebral haemorrhage: A multicentre mri cohort study. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 2013;84:624–629. doi: 10.1136/jnnp-2012-304434. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
37. Martinez-Ramirez S, Pontes-Neto OM, Dumas AP, Auriel E, Halpin A, Quimby M, et al. Topography of dilated perivascular spaces in subjects from a memory clinic cohort. Neurology. 2013;80:1551–1556. doi: 10.1212/WNL.0b013e31828f1876. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
38.Johnson KA, Gregas M, Becker JA, Kinnecom C, Salat DH, Moran EK, et al. Imaging of amyloid burden and distribution in cerebral amyloid angiopathy. Ann Neurol. 2007;62:229–234. doi: 10.1002/ana.21164. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
39. Ly JV, Donnan GA, Villemagne VL, Zavala JA, Ma H, O’Keefe G, et al. 11c-pib binding is increased in patients with cerebral amyloid angiopathy-related hemorrhage. Neurology. 2010;74:487–493. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181cef7e3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
40. Baron JC, Farid K, Dolan E, Turc G, Marrapu ST, O’Brien E, et al. Diagnostic utility of amyloid pet in cerebral amyloid angiopathy-related symptomatic intracerebral hemorrhage. J Cerebr Blood F Met. 2014;34:753–758. doi: 10.1038/jcbfm.2014.43. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
41. Gurol ME, Becker JA, Fotiadis P, Riley G, Schwab K, Johnson KA, et al. Florbetapir-pet to diagnose cerebral amyloid angiopathy: A prospective study. Neurology. 2016;87:2043–2049. doi: 10.1212/WNL.0000000000003197. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
42. Charidimou A, Farid K, Baron JC. Amyloid-pet in sporadic cerebral amyloid angiopathy: A diagnostic accuracy meta-analysis. Neurology. 2017;89:1490–1498. doi: 10.1212/WNL.0000000000004539. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
43. Verbeek MM, Kremer BP, Rikkert MO, Van Domburg PH, Skehan ME, Greenberg SM. Cerebrospinal fluid amyloid beta(40) is decreased in cerebral amyloid angiopathy. Ann Neurol. 2009;66:245–249. doi: 10.1002/ana.21694. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
44. Renard D, Wacongne A, Ayrignac X, Charif M, Fourcade G, Azakri S, et al. Cerebrospinal fluid alzheimer’s disease biomarkers in cerebral amyloid angiopathy-related inflammation. J Alzheimers Dis. 2016;50:759–764. doi: 10.3233/JAD-150621. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
45. Martinez-Lizana E, Carmona-Iragui M, Alcolea D, Gomez-Choco M, Vilaplana E, Sanchez-Saudinos MB, et al. Cerebral amyloid angiopathy-related atraumatic convexal subarachnoid hemorrhage: An aria before the tsunami. J Cereb Blood Flow Metab. 2015;35:710–717. doi: 10.1038/jcbfm.2015.25. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
46. Greenberg SM, Al-Shahi Salman R, Biessels GJ, van Buchem M, Cordonnier C, Lee JM, et al. Outcome markers for clinical trials in cerebral amyloid angiopathy. Lancet Neurol. 2014;13:419–428. doi: 10.1016/S1474-4422(14)70003-1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
47. van Rooden S, Goos JD, van Opstal AM, Versluis MJ, Webb AG, Blauw GJ, et al. Increased number of microinfarcts in alzheimer disease at 7-t mr imaging. Radiology. 2014;270:205–211. doi: 10.1148/radiol.13130743. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
48. van Opstal AM, van Rooden S, van Harten T, Ghariq E, Labadie G, Fotiadis P, et al. Cerebrovascular function in presymptomatic and symptomatic individuals with hereditary cerebral amyloid angiopathy: A case-control study. Lancet Neurol. 2017;16:115–122. doi: 10.1016/S1474-4422(16)30346-5. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
49. Eng JA, Frosch MP, Choi K, Rebeck GW, Greenberg SM. Clinical manifestations of cerebral amyloid angiopathy-related inflammation. Ann Neurol. 2004;55:250 –256. doi: 10.1002/ana.10810. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
50. Auriel E, Charidimou A, Gurol ME, Ni J, Van Etten ES, Martinez-Ramirez S, et al. Validation of clinicoradiological criteria for the diagnosis of cerebral amyloid angiopathy-related inflammation. JAMA Neurol. 2016;73:197–202. doi: 10.1001/jaman eu rol.2015.4078. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
51. Sperling RA, Jack CR, Jr, Black SE, Frosch MP, Greenberg SM, Hyman BT, et al. Amyloid-related imaging abnormalities in amyloid-modifying therapeutic trials: Recommendations from the alzheimer’s association research roundtable workgroup. Alzheimers Dement. 2011;7:367–385. doi: 10.1016/j.jalz.2011.05.2351. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
52. Boulouis G, Charidimou A, Pasi M, Roongpiboonsopit D, Xiong L, Auriel E, et al. Hemorrhage recurrence risk factors in cerebral amyloid angiopathy: Comparative analysis of the overall small vessel disease severity score versus individual neuroimaging markers. J Neurol Sci. 2017;380:64–67. doi: 10.1016/j.jns.2017.07.015. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
53. Charidimou A, Peeters AP, Jager R, Fox Z, Vandermeeren Y, Laloux P, et al. Cortical superficial siderosis and intracerebral hemorrhage risk in cerebral amyloid angiopathy. Neurology. 2013;81:1666–1673. doi: 10.1212/01.wnl.0000435298.80023.7a. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
54. Moulin S, Labreuche J, Bombois S, Rossi C, Boulouis G, Henon H, et al. Dementia risk after spontaneous intracerebral haemorrhage: A prospective cohort study. Lancet Neurol. 2016;15:820–829. doi: 10.1016/S1474-4422(16)00130-7. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
55. Charidimou A, Jager RH, Peeters A, Vandermeeren Y, Laloux P, Baron JC, et al. White matter perivascular spaces are related to cortical superficial siderosis in cerebral amyloid angiopathy. Stroke. 2014;45:2930–2935. doi: 10.1161/STROKE AHA .1 14. 005568. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
56. Tsai HH, Tsai LK, Chen YF, Tang SC, Lee BC, Yen RF, et al. Correlation of cerebral microbleed distribution to amyloid burden in patients with primary intracerebral hemorrhage. Sci Rep. 2017;7:44715. doi: 10.1038/srep44715. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar

